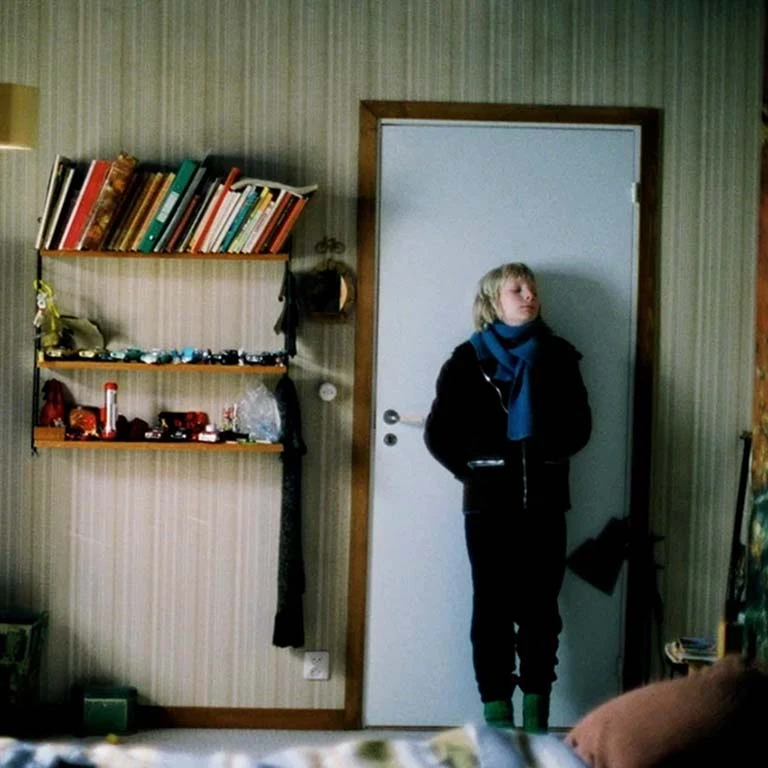В поселке Чоботы (ныне это часть Переделкино) располагается известная московская изба-теремок. Накануне Всемирной выставки в Глазго, постепенно отходя от увлечения готикой, Федор Шехтель построил дачу для А.А. Левенсона. По сложившейся в России традиции предприниматель записал дачу на жену, поэтому в документах это творение архитектора фигурирует как «Дача С.Я. Левенсон». Шетель строил в это же время для Левенсона здание типографии в Трёхпрудном переулке. А потом в очень похожем стиле Шехтель построил здание Северного вокзала (сегодня мы его знаем как Ярославский).
При внимательном рассмотрении деревянный загородный дом на 3-й Чоботовской аллее — типичный представитель романтической ветки «русского модерна». Типологически схожие постройки русских павильонов в Глазго, которые Шехтель осуществил вместе с А. Зеленко, поразили в начале ХХ века воображение англичан — те не разбирали «теремки» в течение четырёх лет после выставки, пытаясь договориться о покупке. По непонятным причинам та сделка сорвалась. Более того — постройки русского отдела на выставке в Глазго обратили на себя внимание английской публики и прессы. Например, «Newcastle Chronicle» подобно информировала своих читателей о ходе строительства русского отдела, о жизни и труде русских рабочих, присланных специально для сооружения выставочных зданий. Британцев особенно поражало «умение русских владеть топором, превращающимся в их руках в такой инструмент, которым они производят всевозможные работы».
В 1970-е годы исследователь В.В. Кириллов написал книгу «Архитектура русского модерна (опыт формологического анализа)», где павильонам в Глазго отдано несколько абзацев. Позволим себе пространную цитату: «В „неорусском“ стиле создавали и такие престижные архитектурные сооружения, как выставочные павильоны и вокзалы, олицетворявшие собой национальное величие России, её старинные города и народную культуру.
Интересный опыт в этом отношении имел Шехтель, когда ему пришлось проектировать постройки «Русского отдела» на Международной выставке в Глазго. В архитектуре выстроенных им павильонов архитектор пришёл к национальному выражению стиля через осознание закономерностей построения формы в древнерусском зодчестве, сведя свою задачу прежде всего к построению объемной композиции, а не к декорированию. И отсюда его интерес только к определенному историческому опыту — деревянному народному зодчеству и к каменной архитектуре XVI в., где особенно проявилось конструктивное и пластическое начало в формообразовании, живописное и силуэтное построение композиции. <...> Однако структура и пространство их тем не менее остаются современными. И могло это произойти только потому, что Шехтель взял из народного опыта именно то, что можно было развить далее и в современной архитектуре».
Согласитесь, любопытно взглянуть на работу архитектора именно под таким углом. И известные здания предстают перед нами мыслеформой.